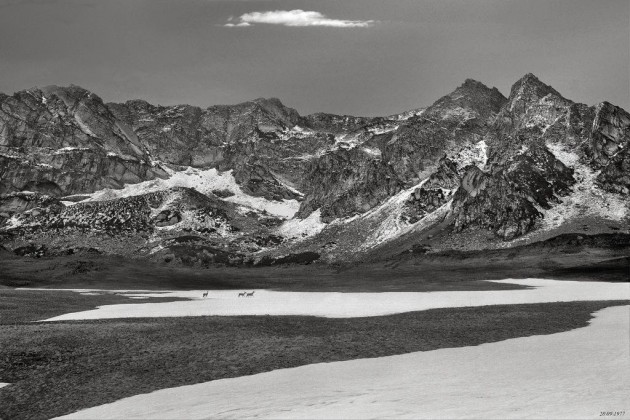Горячие в начале лета ожидания первого выпуска леопардов из вольера на волю остыли до следующего года. Говорят, Путину некогда. А без него новостная картинка не будет полной. Еще раньше, и на многие годы, угасла надежда найти полевых зоологов для изучения в дикой природе леопарда, рыси, медведя, волка. Долго, сиротливо на сайте Кавказского заповедника висела вакансия териолога, специалиста по крупным хищникам, пока не исчезла. Академики не могут, а научная смена не хочет идти в горы. Сегодня на всем Кавказе нет полевого зоолога, наблюдающего за крупными хищниками.
Страх компьютерного поколения перед походными условиями быта и когтями зверя не объясняет всего. Потому что и в кабинетной науке отмирают целые отрасли, занятые в них ученые — исчезающий вид. Например, студенты-юристы Сочинского университета туризма и курортного дела жестко нацелены на работу в адвокатуре, прокуратуре, суде. При этом порожденная Олимпиадой благодатнейшая природоохранная тематика остается непаханым полем.
Старейший специалист по крупным хищникам Кавказа, академик Анатолий Кудактин объясняет, почему молодежь уклоняется от работы с дикой природой:
— Приезжаю я читать лекции в Краснодар, Ростов, Киров, Москву. Начинаю приглашать на работу зоологов. В аудитории 100-150 студентов. У одного или двоих глаза блеснут — и погаснут. После лекции спрашиваю: почему? Они начинают выяснять условия. Действительно, первые пять лет, пока не окандидатишься, не одокторишься, зарплаты мизерные. На 7-8 тысяч рублей в месяц молодой человек не может ходить в горы и содержать в городе семью. Поэтому выпускники биофака идут в коммерцию, еще куда-то, чтобы было на что жить. Финансовая составляющая очень сильно разрушает науку. Я был во Франции, в Америке, в других странах. Там подход совершенно другой: если начинаешь заниматься наукой, тебя начинают поддерживать — грантами, чем угодно, чтобы ты достиг уровня, стал специалистом. Там ученый, если уж заключил договор, работает только на результат, не отвлекаясь на решение побочных вопросов, транспортных, денежных и прочих. Если бы у нас эту систему ввели, многие бы потянулись в науку, я взял бы кучу учеников. Но вряд ли в ближайшие годы что-то сдвинется с мертвой точки.
Во времена СССР с молодыми тоже не нянчились. Но тогда уделяли время и деньги научному решению вопросов государственной важности.
Когда Анатолий Кудактин в 1972 году пришел в науку, в прессе развернулась широкая кампания против волка, врага людей и зверей. Тем не менее ученым было поручено проверить, так ли страшен волк, как его малюют. Для изучения хищников образовался тандем опытного биолога Дмитрия Ивановича Бибикова и молодого Анатолия Кудактина. Наставник осуществлял общее руководство из Москвы, туда же полевой зоолог Кудактин доставлял материал, собранный в Кавказском заповеднике. Результатом деятельности рабочей группы по волку стали не только диссертации и ученые звания. К 1986 году удалось убедить всех не трогать волка в заповеднике. Когда истребление прекратилось, хищников не прибавилось. Они распределили территорию и охотами держали копытных в тонусе, не подрывая численность популяций.
Предосудительное отношение к волку было преодолено с помощью научных исследований.
Двадцать лет спустя, к началу олимпийской стройки в Сочи, наука в судьбе природы Кавказа играла только декоративную роль. При «Олимпстрое» был создан экологический совет маститых ученых. С ними не спорили, их мнение записывалось, но не учитывалось и не отражалось на траектории движения бульдозеров «Олимпстроя». Когда ученые убедились, что зря теряют время, экологический совет самораспустился.
Чего могло не быть, если бы востребовали науку?
Возьмем хрестоматийный пример озеленения олимпийских объектов. Этим занимались «специалисты», не подозревавшие, что приехали в субтропики из несколько иных ботанических провинций. Им могли бы разъяснить пагубность бесконтрольного ввоза посадочного материала из зарубежных питомников. Но ведь пришельцы не спрашивали. Доктор биологических наук Юрий Карпун десятки лет выращивал на Черноморском побережье Субтропический ботанический сад Кубани, чтобы олимпстроевцы не посоветовались с ним ни разу. В итоге, завезенная из Италии самшитовая огневка превратила вечнозеленый самшит в пугало мертвых древостоев и непоправимо искалечила единственные в России субтропические леса.
Так же навеки безвозвратно утрачен уникальный природный комплекс «Приморская песчаная растительность на Имеретинской низменности». Для его сохранения требовалось всего лишь оставить разрыв в монолите железобетонной набережной. Старейший сочинский ботаник Александр Солодько на местности, в натуре показывал олимпстроевцам краснокнижные цветы и травы. В результате победили объемы строительно-монтажных работ: чем больше зальем бетона, тем больше заплатят.
Унизительное бессилие всякой научной аргументации перед слепым катком освоения денег. Подобная практика роняет престиж науки и девальвирует образование. Социально чуткая молодежь не может этого не чувствовать и относится к ничего не решающей науке с олимпийским спокойствием и пренебрежением.
Александр Солодько оставил после себя «Зеленую книгу Сочинского Причерноморья». В бесстрастные описания 126 особо ценных ботанических объектов вторгаются элементы триллера. Этот жанр глубоко чужд Солодько, но российские девелоперы кого угодно и чего угодно выведут из равновесия:
«Особую ценность высокогорной природы представляет собой цирк под третьим пиком хребта Аибга. Это грандиозный лугово-скальный цирк с вертикальными стенами известняковых скал, каменные россыпи, обвалы, осыпи, снежники, ручьи, озера… Разнотравные субальпийские луга с редкими и эндемичными видами альпийской флоры: омфалодес Лойки, лютик Елены, долихорхиза Корревона, юринея Ливье, астра альпийская, нонея промежуточная. По данным обследования, проведенного автором в 2013 г., цирк под третьим пиком хр. Аибга необратимо изуродован при строительстве канатной дороги «Горная карусель».
«Памятник природы «Мыс Видный»… В составе ценного растительного сообщества ряд видов, включенных в Красную книгу: сосна пицундская, инжир колхидский, ложнодрок монпелийский, сумах дубильный, иглица шиповатая, орхидеи — офрисы водоносная и пчелоносная, ятрышник прованский, любка зеленоцветная… Ложнодрок встречается очень редко, только на приморских склонах, по опушкам и в смешанных широколиственных лесах от мыса Видного до устья реки Мацесты. Вид находится под угрозой исчезновения… В 2010-2011 гг. ценному памятнику природы был нанесен непоправимый ущерб при прокладке временной железнодорожной ветки ОАО «РЖД». В настоящее время площадь памятника незаконным образом существенно урезается в угоду застройщикам».
До своей смерти Александр Солодько успел показать редкие растительные сообщества сочинскому натуралисту Михаилу Плотникову, человеку среднего возраста. Навыки полевого ботаника, как и полевого зоолога, передаются не теоретически, а из рук в руки с выходом в горы. Сегодня Кудактину некому передавать навыки зоолога. А кому Плотников покажет и назовет по именам редкие растения? Будет ли кому?
Вот у олигарха Потанина были, есть и будут преданные ученики. Сегодня на курорте «Роза Хутор» они рубят заповедный лес в направлении урочища Энгельманова поляна, где Солодько отметил «исчезающую популяцию безвременника великолепного». Ему помогут исчезнуть.
В Сочи исчезает популяция ученых-исследователей. Процессы деградации среды обитания и науки идут параллельно и подстегивают друг друга.
В Кавказском заповеднике последние годы идет дискуссия о солонцах. Ученые настаивают на том, что копытным достаточно естественных солонцов. Охрана выражает опасение, что охотники за пределами заповедника продолжат закладку искусственных солонцов, чем выманят животных под выстрелы. Обе стороны в споре согласны с тем, что искусственный солонец для зубра, оленя, тура, серны — это конфетка. Соль позволяет частично управлять животными.
В этом смысле канатка тоже конфетка. Для молодежи. Не думай о том, что росло и дышало на скальпированных горных склонах в прошлом. Не волнуйся о вероятных селевых потоках в будущем. Хватай сноуборд и катись. В гору идти скучно, поэтому поднимайся по канатке наверх и опять катись.
Подобных конфеток много. Одни отвлекают молодежь от научного мышления. Другие дают надежду привлечь в науку кадры. Анатолий Кудактин пытается заинтересовать охрану заповедника техническими новинками. Вместе с лесниками академик снимает расставленные в горах фотоловушки. Лесник, живущий на кордоне и регулярно совершающий обходы, с удивлением обнаруживает, что на его участке живут «рысь и 37 медведей». А он и не видел! «Может, из лесной охраны удастся привлечь людей в науку?» — надеется профессор Кудактин.
Когда на леопардов перед выпуском на волю наденут приборы, позволяющие следить за их передвижением из космоса, это тоже станет для многих конфеткой.
Современная наука страшит молодых не только трудностями, но и качеством научной среды. Плодятся лжеученые, читающие формулу воды как «эн-два-о» (так принародно обмолвился один окандидатившийся чиновник заповедного дела). Сегодня всякий доцент подозрителен: ученый он или выдает себя за такового ради анкетных данных и карьерного роста. При подготовке этого материала к публикации молодая кандидатка наук Екатерина жаловалась автору, что не может придумать тему докторской диссертации («Влияние лунного света на рост телеграфных столбов» ей не подходит). Если говорить серьезно, затруднение Екатерины противоречит базовому парадоксу исследований: расширение области познания увеличивает границу с областью непознанного. То есть защита подлинной кандидатской открывает еще больше тем для докторской.
— Наука — трясина! Чем глубже засасывает, тем отчетливее понимаешь: после многих лет занятий наукой ты ничего не знаешь. С расширением кругозора расширяется проблематика. Хочется привлечь больше сил. Дали бы мне 10-15 молодых крепких ребят, я бы их нагрузил. Все бы занимались наукой, не пересекаясь друг с другом. Всем было бы интересно! — говорит профессор Кудактин.
Сходного мнения о безграничности познания придерживался Сократ. В свете сказанного возникает вопрос: чем же по сути занимается в своем сочинском вузе кандидатка Екатерина? Наверно, тем же, чем занимались в других вузах аспиранты Ткачев, Пахомов, Золина… Ученая степень помогает дойти до степеней известных. Надо чувствовать конъюнктуру и придумать такую тему докторской, чтобы dissernet не подкопался.
Научная смена катается в социальном лифте. Студентка получает первое высшее образование. Замуж ей неохота или не за кого, на престижную работу с достойной зарплатой без опыта не берут. Студенка снова садится в социальный лифт и получает второе высшее. Родители горды тем, что вкладывают деньги в образование ребенка. Преподаватели имеют с этого кусок хлеба с маслом. Но в этой замкнутой системе, благополучно себя обслуживающей, исследование вырождается в фикцию. Наукой занимаются в той мере, в какой она служит достижению личного счастья. А история доказывает, что ее двигали одержимые.
Наука застряла в социальном лифте. Дураков нет идти за бесплатно к медведю в гости.
Контакты с зарубежными коллегами не прибавляют энтузиазма. Они используют наших в качестве батраков. Зарубежные гранты — это способ получить качественную первичную информацию с минимальными затратами. Год изучать популяцию волка и составить подробный отчет наши соглашаются за 10 тысяч долларов. За рубежом подобный отчет вдесятеро дороже. В Швеции час работы доктора наук стоит 600 евро. Но когда речь заходит о таких цифрах для россиян, то от контрактов с иностранцами остается одна их непробиваемая улыбчивость.
Последние ученики Кудактина, бывшие студентами МГУ и прошедшие суровую школу полевого зоолога в горах Кавказа, все остались в науке и все уехали за рубеж.